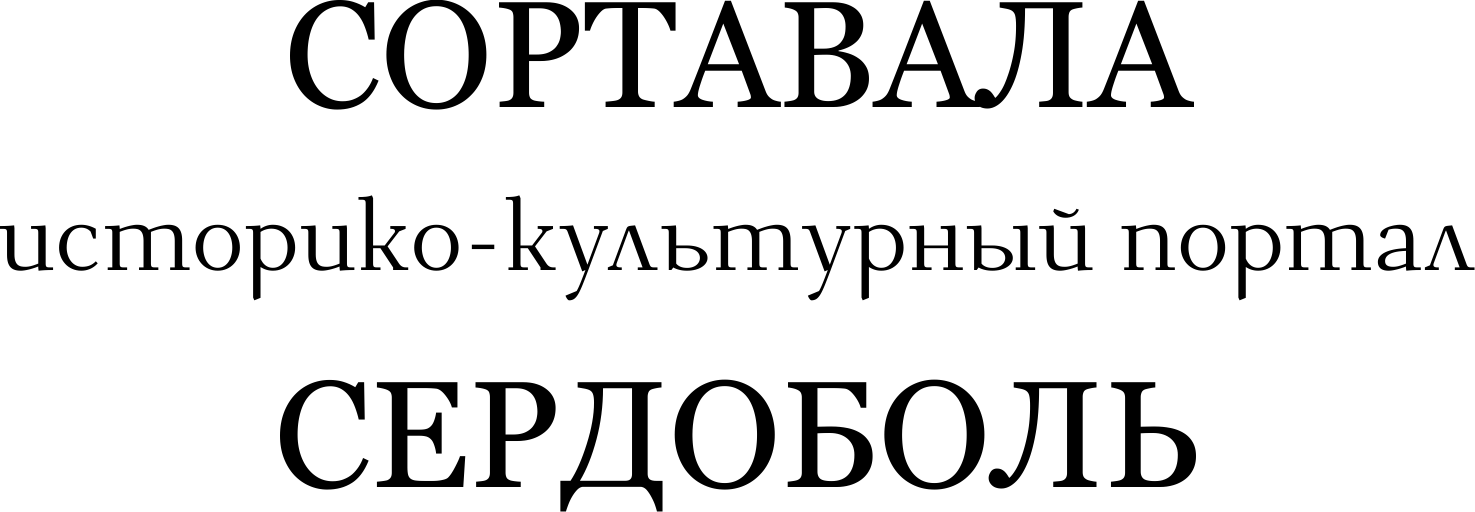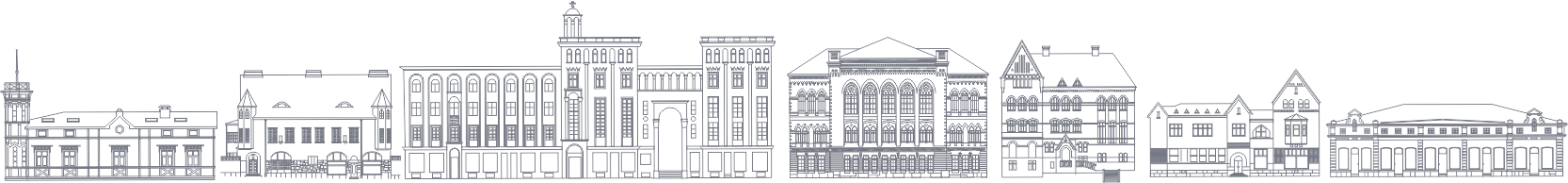Первая моя европейская страна — это Германия, у меня ассоциация с ней именно. А так вот действительно здесь именно европейские улочки некоторые, вот бродишь — как будто... Забываешь даже. Я помню, когда самый первый раз приехала сюда, это был третий курс в университете, и мы приехали, приезжали просто студентами, поехали на Валаам. И идем по улицам, а приехали в это же время финны. То есть 7 утра — и идут по улице только финны. Мы такие думаем: куда мы попали, здесь что, действительно финский город? И они идут, громко по улице разговаривают, причем это было 7 утра — они шли после ночного клуба, пели свои песни на финском языке. (– Бюлер Валерия Евгеньевна, 1988).
Многие приезжают, те, кто архитектурой увлекается. Даже вот финны, границы когда открылись, сюда приехали архитекторы, и здесь была такая малая родина архитектуры финской, что ли. Потому что тут в одном городе много всяких стилей. Так как финны, они же все равно перестраивают дома постоянно — у них вот там есть города, которые, ну, они современные. То есть тот же Йоэнсуу — дома постоянно перестраиваются, деревянные там. А у нас тут все деревянное и много стилей. (– Машигина Анна, 1987.)
Многое во внутреннем устройстве домов — от саун в подвалах до планировок квартир и конструкционных особенностей кровли и т. п. — описывается как финское, нередко маркированное знаком качества (например, финские сауны, которые стали использовать как русские бани; кровля и водосток, функциональность которых испортил новый городской капремонт) («У финнов специальный бронзово-чугунный сплав был отопительной системы. Они были очень тяжелые. Мы работали в финском здании тоже — он не ржавеет, вода чистая. Вот сейчас вода в городе очень плохая, а у них была эта система»20). Финская утварь, оставленная ушедшими прежними хозяевами, нередко бережно хранится, иногда остается объектом детского интереса («...я помню этот большой утюг тяжеленный, то есть вот это почему-то я помню, сундук такой интересный, вот, рушники какие-то там такие»21). А в некоторых историях крупицы сохранившегося финского прошлого становятся своего рода осколками «затонувшей Атлантиды».
21 Тимощенко Лариса Анатольевна, 1968.
...отец мне рассказывал, что если поедете на Риеккалансаари через мост, через паром, там будет два таких островочка, ну, то три, то два, в зависимости от уровня воды, — вот на этих островочках стояли дома, и из этих домов не успели все вывезти, и отец рассказывал, что они переплывали мальчишками на эти дома и собирали там стеклышки, которые были разбиты. Бабушка говорила, что когда наши пришли в город, он как картинка был — все было витражное стекло, все вот это. (– Перминова Елена Анатольевна, 1970.)
Финские кладбища в советские годы представляли собой заброшенную территорию, которая функционировала как типичный неблагоустроенный парк: для детей это было местом собраний, игр, источником страхов перед лежащими в склепах «финнами»; здесь выгуливали собак и собирались для распития алкоголя, и т. д.
Ой, у нас такое было финское кладбище. Это в Питкярантском районе финское кладбище было. Ой, и вот это вот, конечно — кидать камни, искать, где гробы. [Кидать камни?] Ну, вот идешь, камень бросаешь, если глухой звук — скала, значит, там гроб. Мы туда цветы носили. Кошек хоронили, собак, естественно, мышей, мух, вот это, похороны устраивали. <...> И самые смелые — ну, дураки, господи, как, ну, их жизнь наказала — выкапывали, конечно, гробы. Я помню кости эти оранжевые такие, вот прям. (– Бережная Маргарита Леонидовна, 1974.)
Отношение к кладбищу начало меняться после перестройки, когда в Сортавалу стали приезжать финны или потомки тех финнов, которые покинули город перед приходом советских войск. Актуализация финского кладбища именно как места поминания подтолкнула посетителей к соблюдению соответствующих предписаний и запретов: «Дак рядом эта финская такая большая могилка-то: все тоже обложено, написано по-фински. Ну вот, мы в другой раз тоже идем, тоже посыпем, тоже положим там че-то. Конфетку и бросишь, скажешь: “Земля пухом”, да и пошла: “Земля вам пухом”» [Мельникова 2019: 21].
Еще одна важная составляющая финского наследия в городе — его топонимы, лишь отчасти измененные в советское время. Однако наиболее ярким маркером «финскости» территории является актуальная и для многих болезненная дискуссия22, поделившая город на два фронта: нужно или не нужно склонять название города («Живу в Сортавала», вместо «Живу в Сортавале»). Дискуссия эта вдвойне примечательна, если рассматривать ее на фоне других финских и карельских названий городов Карелии, склонение которых не вызывает таких бурных споров (Кондопога, Костомукша, Лахденпохья, Питкяранта).
22 Некоторые собеседники откровенно замечали, что им «режет слух» наша «пришлая» манера склонять слово Сортавала; иногда советовали быть аккуратными, так как в некоторых сообществах такое произношение может вызвать негативную реакцию.
История в том, что у нас финские топонимы. С одной стороны, я — приверженец истории о том, что их надо склонять. Ну, существуют правила, по которым мы их склоняем, а многие считают их финскими, и финские названия нельзя склонять. Причем доходит до абсурда, когда я приезжаю в Питкяранту, познакомился с девушкой, и Сортавала не склоняют, а Питкяранту при этом склоняют. Это очень парадоксально, хотя они подвержены одному правилу. У нас всегда очень большие споры, когда приезжает турист или чиновник пишет. Вроде новость красивая, позитивная, всем понравилась, но стоит ему просклонять название города, тут же десяток комментариев на эту тему, и все забывают про то, что написано вообще. Это местная больная тема. (–Чалых Василий Сергеевич, 1993).

Илл. 2. Карельский мост через залив Вакколахти, снятый в первый день экспедиции, по дороге с железнодорожного вокзала к гостинице в центральной части города. Фото: Эста Матвеева
Помимо богатой финской архитектуры, советская Сортавала наследовала традиции финского городского озеленения и чистоплотности, которые успешно компенсировали обилие промышленных предприятий в городе и не позволили ему превратиться в индустриальную периферию.
А вот про эти деревья знаете? Это финская селекция — скрещены береза с черемухой. Получается, финны — Сортавала был город курортный, и деревья нужны были необычные, — вот они что-то такое придумали. (– Перминова Елена Анатольевна, 1970).
И у нас, где сейчас фонтан, там тоже был фонтан, в этих скверах было столько роз. Вы не поверите. Все утопало в цветах. Весь город. (–Евсеева Маргарита Ильинична, 1960).
У нас был комбинат озеленения. Я так понимаю, там около 40 человек работали постоянно, круглый год, а не абы когда. Для того чтобы в городе были цветы, деревья, кусты правильно росли, все правильно поливалось. (– Перминова Елена Анатольевна, 1970).
В воспоминаниях переселенцев о послевоенной Сортавале 1940-х годов из архивов местного краеведческого музея прослеживается та же идея.
Страшно было переплавляться на тот берег. Поборовшись со страхом, переправились. А там... красота! Такой красивой природы Фаина никогда не видела: «Аж дух захватывал!». По дороге деревья с обеих сторон, цвела черника. (– Воспоминания Дориной Фаины Васильевны, 1931. Переехала в Сортавалу в 1946 году из Вологодской области. Архив краеведческого музея. [http://museum-sortavala.ru/vazhno.html])
Каким я помню город Сортавала? Зеленый, идеально чистый. (– Воспоминания Куликова Александра Дмитриевича, 1929. Переехал в Сортавалу из Кеми в 1940 году, вернулся в 1945 году. Архив краеведческого музея. [http://museum-sortavala.ru/vazhno.html])
В беседах с рассказчиками родом из Сортавалы, чье детство и молодость пришлись на 1970-1980-е годы, мотив исключительной чистоты («чистейший», «идеальная чистота», «ни одной пылинки» и пр.) городского пространства в этот период встречается повсеместно.
Город был чистый, ходили военные патрули. Утром идешь на поезд — в 6 утра у тебя все в дворниках, все намыто, все начищено. Моя мама выходила в город, у нее была специальная тряпочка — мы жили за городом — она выходила, туфельки натирала, и ни одной пылинки не было. <...> Я все мечтала, что приедет Брежнев. Меня волновало, что где-то асфальта там не было. Но по сравнению с тем, что сейчас, я не понимала, с чем сравнивать. (– Перминова Елена Анатольевна, 1970).
И вот я помню, что Петрозаводск по сравнению с Сортавала, он хуже был. Не в плане людей или что-то, а в плане чистоты. <...> И он был просто чистейший. У меня такая ассоциация была, когда я в Минск приезжала, утром рано и шла, я просто обожала с вокзала идти, там бабушки подметали вениками проспект. Вот в мою молодость так было в городе. Эти дворники, которые метут, убирают. Это была просто идеальная чистота. (– Евсеева Маргарита Ильинична, 1960).
У меня есть воспоминания такие, когда я была студенткой в пединституте, все друзья, которых я возила сюда в гости, говорили: «Какой чистый город». И это правда. У нас был чистейший город в советское время. Он был весь в цветах. (– Евсеева Маргарита Ильинична, 1960).
Среди наших собеседников много тех, кто переехал в город 1960—1970-е годы из других районов республики и других регионов России (зачастую из деревень). Описывая свои первые впечатления о городе, они используют те же характеристики: обилие урн, свежий воздух, грибы, растущие в черте города, цветы, вода и зелень.
И вот мы купили мороженое — ну, что, а так как я в деревне росла, у меня же не было этих привычек, урн и так далее. И, естественно, первое движение — я хотела выбросить фантик от мороженого на пол, ну, там на асфальт. И когда я посмотрела, меня поразила такая чистота — вот настолько это был чистый такой город, ни пылинки, ни бумажки. И я помню, я вот с этой бумажкой в руках прошла по всему городу — я не знала, куда ее выкинуть, как и что. То есть вот у меня такое, допустим, было яркое впечатление об этом. Ну, и город, конечно, поразил тем, что вот он… маленький, чистый и уютный. Вообще вот он не такой, как сейчас61. (– Лущик Татьяна Анатольевна, 1961. Переехала в город из Нижнего Тагила в раннем возрасте вместе с матерью).
Я стою на остановке [напротив гостиницы «Ладога»] и голову наклонила — а тут гриб растет. За заборчик маленький заглянула — а там еще три гриба. Это просто в городе — город был чистый. Но совершенно не цивилизованный. Но все равно тут было хорошо, дышалось хорошо. Меня вода поразила [смеется]. (– Хямяляйнен Нина Николаевна, 1938. Переехала в город с Урала из глухой деревни под Нижним Тагилом (село Кайгородка) после окончания Сталинградского института физической культуры).
Совсем молоденькая была тогда. Сюда-то приехала — здесь, ой, мне как город понравился. Вот такой скандинавский <...>. И я приехала — ой, здесь и палисаднички, грязи вообще такой не было, как сейчас у нас. <...> Лето, красота — все тут цвело, все подстрижено, скамеечки везде, урночки — ой, вообще город был обалденной красоты. (– Силкина Алла Михайловна, 1956. Переехала в город в 1975 году по распределению из Петрозаводского училища, родом из деревушки Миккелица в Прионежском районе).
Здесь важно заметить, что принятие финского наследства советскими гражданами происходило не всегда сразу и не всегда легко. Несмотря на благоприятные условия, которые государство старалось обеспечить прибывшим гражданам, процесс адаптации был осложнен совершенно незнакомыми им условиями финского быта: «...мигранты часто не знали, как обращаться с доставшейся им инфраструктурой. Она отвечала тогдашним требованиям европейских стандартов, но совсем не вписывалась в привычный уклад жизни переселенцев» [Изотов 2008-1: 180]). Однако со временем незнакомый уклад органично встраивается в новую повседневность и новую историю, которую вынуждены были для себя создавать с нуля новопоселенцы. В этой парадигме практически не получает выражения конфликтный потенциал, который, казалось бы, должен быть заложен исторически (война, насильственное переселение). Государственный конфликт не равен конфликту частному, иными словами, новая жизнь на чужой земле не становится проблемой из-за отсутствия выбора у переселенцев.
Я так понимаю, что у них выбора. Раньше же как было: раньше же не было выбора — вот сказали и… Это, наверное, с одной стороны, хорошо — человек ведь ко всему приспосабливается. <...> Вот, наверное, все-таки хорошо, когда у человека есть ответственность, что ты должен стране как-то помочь там или… ну, не знаю. (– Бережная Маргарита Леонидовна, 1974).
В этом частном, а не государственном дискурсе чужая земля не «отвоеванная», не «отобранная», а заботливо «подаренная». Этот мотив прослеживается в воспоминаниях о том, какой переселенцев встретила их новая земля — красивая и ухоженная, полностью готовая к жизни, с еще не остывшими следами ушедших владельцев (мотив, который в разных вариантах появлялся почти в каждом интервью: оставленные чашки с дымящимся кофе, горячая каша / горшки с картошкой на столе, замоченное белье, недоенные коровы, теплые печи, не выкопанная картошка и пр.).
...у меня все время такая вот картинка стояла, что когда наши заходили люди в эти дома, что на столе стояли чашки с кофе, и кофе еще не остыл — он дымился. Вот мне почему-то такой вот образ. Ну, вот, видимо, рассказывали, и вот эта вот картинка, вот в детстве она как-то так вот запечатлелась. (– Лущик Татьяна Анатольевна, 1961).
Она мне сказала, что когда они приехали, вот обозами или чем они там ехали, паромами, что они прям пришли — и что прям хата была. Ну, хата — вот это слово бабушкино, хата была прибрана, и чуть ли там не белье было замочено и коровы чуть ли не стояли недоены. Но она говорит, что мы приехали в готовый дом, где была идеальная чистота, где были запасы еды. (– Бережная Маргарита Леонидовна, 1974).
Я просто рассказываю то, что очевидцы говорят — все было брошено. А потом прочитала в журналах исторических, что они брали только самое необходимое. Они не знали, сколько они будут ехать. Как их нагонят или нет. Говорят же, что открывали квартиры, заходили — горшки с кашей горячие. (– Евсеева Маргарита Ильинична, 1960).
Войска войсками, а сюда надо селить людей, иначе территорию-то не закрепить. И когда люди приезжали и заходили в дома, еще печки теплые стояли. В некоторых домах теплая печка, и горшок еще с картошкой был. (– Аноним, м., 1965).
Для кого-то этот мотив маркирует невысказанную санкцию на проживание («Жили мы, теперь живите вы»), благородство бывших территориальных противников, которые могли уничтожить, но оставили наследство будущим новопоселенцам.
Многие рассказывали, что приходишь — стоит котел с картошкой. Они уходили, они не выкинули эту картошку, они оставили эту картошку тем людям, которые сюда приедут. Как знак доброй воли, что будете жить в моем доме — как знак гостеприимства. (– Аноним, м., 1965).
Я не знаю, правда это, неправда, но почему-то вот она постоянно говорила, что они были так благодарны — колодцы — было все продумано. <...> Ну, то есть это вот, она говорит: мы вот приехали — не то что они приехали и там начали строить — они приехали и начали жить. (– Бережная Маргарита Леонидовна, 1974).
Тем не менее существует и другая трактовка того же мотива, объясняющая оставленные следы не актом доброй воли, а верой в скорое возвращение.
В 1939-м году они пришли, в 1940-м — они ушли. Когда русские в 1939-м пришли, финны ничего не увозили, они знали, что вернутся, они были уверены в этом. Когда в 1940-ом, 1941-м наших опять погнали, то нашим дали 2 часа что ли людям. Телеги по этой улице шли, а здесь, на этих местах, сидели автоматчики и пулеметчики. Они их провожали, и неизвестно, когда будет дана команда «Огонь». (– Перминова Елена Анатольевна, 1970).
Ну, они же стихийно в 1944 году. Они же практически от горячих печей. Ну, варили, например. Война-то шла, и шли такие сильные бои. Я так понимаю, что они до последнего были уверены, что они никогда не отдадут этот город. (– Евсеева Маргарита Ильинична, 1960).