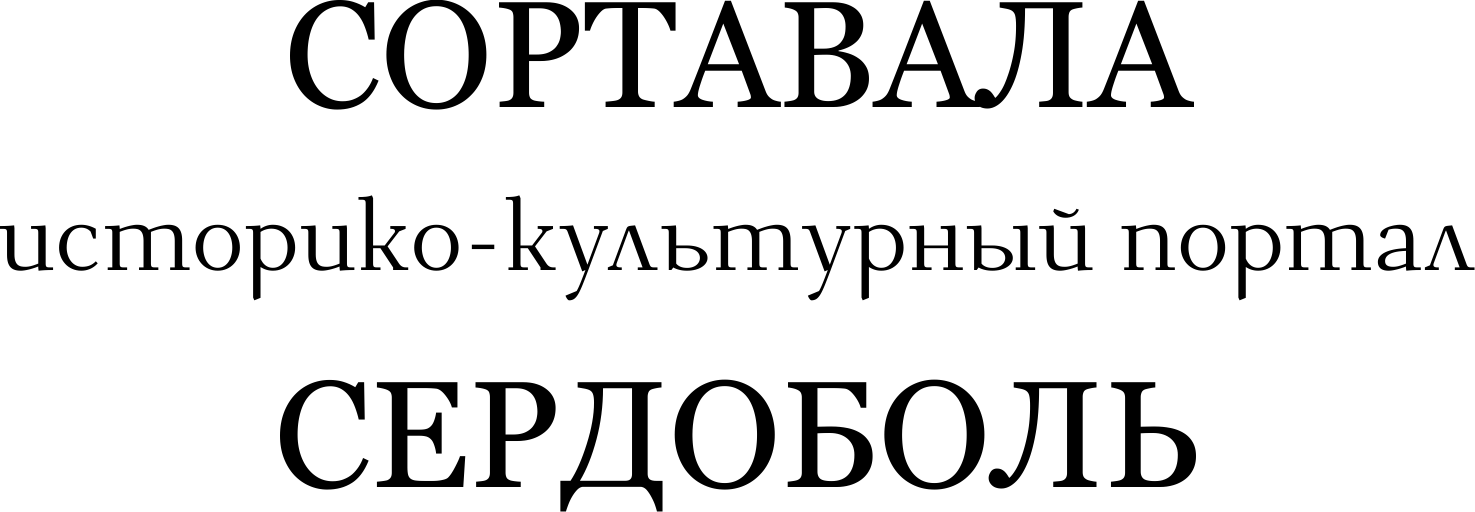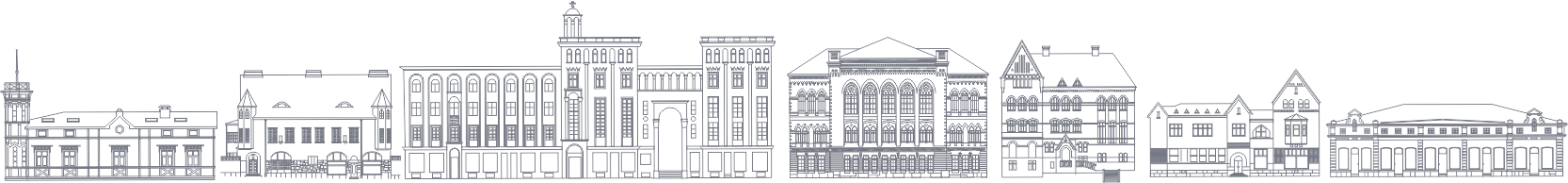«Пойдем, я покажу тебе одно место!»
Детская речевая формула
Автор:
Илюха Ольга Павловна, д-р ист. наук, директор Института языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН Российская Федерация, 185910, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, д. 11
Неотъемлемой частью исследований культуры детства является изучение территориального поведения детей, процесса освоения ими окружающего ландшафта. Быстрые темпы урбанизации последнего столетия сделали особенно актуальным изучение этой проблемы применительно к городской среде. Городской ландшафт рассматривается психологами и социологами как институт социализации ребенка, в процессе которого происходит передача социально-исторического опыта. Психологические основы поведения детей в современном городе раскрыты в известной книге М. В. Осориной. Она уделяет пристальное внимание характеристике закрытого, непостижимого для взрослых мира детства, его пространства, включая запретные места. Исследования психологов подкрепляются изучением детского фольклора, в котором отражается детская рефлексия по поводу страшных и таинственных мест и выражается детская мифология городского пространства.
В историческом плане тема освещена мало. Имеющиеся источники обычно оставляют невидимыми многие из практик территориального поведения детей, они направляют взгляд историков прежде всего в сторону сконструированного взрослыми пространства — образовательного, воспитательного, досугового. Именно эти локусы находятся в центре внимания А. А. Сальниковой, а также Ж. А. Хамитовой. А. А. Сальникова затрагивает проблему историко-социальной обусловленности пространств взросления, что поддерживает идею А. Лефевра о нестатичности, исторической изменчивости городского пространства и его восприятия. Для нашего сортавальского кейса важны наблюдения исследовательницы о трансформации городского «детского» пространства Казани при переходе от одного политического режима к другому, процесс его «осовечивания». С ситуацией в Сортавале — городе в северном Приладожье — типологически схожа пока еще слабо исследованная жизнь детей в послевоенном прибалтийском Кенигсберге/Калининграде: в обоих случаях налицо проблема культурного разрыва при освоении присоединенных территорий других государств.
Сортавала послевоенного периода является интереснейшим объектом для исследования топографии детской жизненной среды. Бывшая финская территория, аннексированная Советским Союзом в результате Второй мировой войны, вошла в состав Карело-Финской ССР. Почти 5 тыс. граждан Финляндии покинули город, а опустевшие дома заселяли переселенцы из различных регионов СССР. Продуманная городская инфраструктура, оригинальная архитектура, рациональное бытовое благоустройство — все это на свой манер осваивалось советскими людьми, что постепенно меняло городскую среду.
Поколение детей, рожденных после войны, которых газетчики называли «ровесниками советской Сортавалы», обживало пространство города, в отличие от собственных родителей, как свое, естественное, изначально данное. Большинству из них были чужды послевоенные страхи взрослых по поводу возможного возвращения прежних обитателей города, как были неведомы и ощущения зыбкости пребывания в этом благодатном крае, сомнения в перспективности укоренения на земле, лишь недавно ставшей советской. Для послевоенных детей Сортавала была родиной, которая воспринималась как данность и прорастала в сердцах и душах как всякая иная родина.
Значительную часть времени дети в Сортавале, как и в других городах страны, проводили в образовательных и досуговых учреждениях. Сортавала как образцовый советский город на границе с Финляндией преуспевала в создании подобных контролируемых взрослыми и унифицированных «детских пространств». Однако во все времена дети и подростки, постигая мир, особым образом осваивают пространство, выходят за установленные взрослыми границы, нарушают запреты. В силу своей природы они склонны создавать «локусы свободы», неподконтрольные взрослым, где действуют особые правила, где можно оставаться самим собой, проявить свою индивидуальность в отношениях с окружающим миром и реализовать свою игру и мечту. Выстраивая свои отношения с ландшафтом, дети наделяют его собственными смыслами и значениями, в которых находят отражение мифологические представления о мире. Важно подчеркнуть, что пространство пограничного города, еще недавно принадлежавшего другой стране, само по себе исключительно мифогенно, оно продуцирует миф. Этому способствовали и необычный, европейский облик Сортавалы, и циркулировавшие в городском микросоциуме слухи о прежних обитателях города, которые попадали и в сферу внимания маленьких сортавальцев.
В данной статье ставится задача выявления поведенческих практик детей в ходе освоения ими запретных и таинственных мест в послевоенном городе или наделения таинственностью городских локусов. Они могли находиться и внутри дома, но в основном располагались вне его. Попытаемся описать наиболее популярные места Сортавалы, показать их назначение и значимость в детской повседневности. Отчасти, насколько нам позволят источники, попытаемся реконструировать также фрагменты детской мифологии этих территорий.
Источниками исследования являются документы меморативного характера: тексты воспоминаний, включая записи интервью о детстве, публицистика и поэзия. Интервью были записаны автором этой статьи в 2017-2018 гг. Опорными при написании данной статьи также стали опубликованные воспоминания о детстве в Сортавале филолога Натальи Дмитриевны Першиной (привлекался текст из архивной версии), а также философа и поэта Юрия Владимировича Линника. Упомянутые интервью и тексты воспоминаний непротиворечивы, они дополняют друг друга и воспринимаются как цельный текст о сортавальском послевоенном детстве. Это дает нам основание при цитировании их в данной статье в некоторых случаях опускать имя автора, ограничиваясь ссылкой на источник.
При этом, анализируя такого рода источники, нельзя упускать из виду факт многослойности памяти о детстве. Как отмечал В. Г. Безрогов, воспоминания не бывают равны действительности. Подчас они несут печать двойной субъективности: субъективности опыта и субъективности его презентации слушателю, аудитории. Памятные рассказы о детстве пропускаются через напластования пережитого, внутреннюю цензуру последующей жизни и «выученную историю», нередко спорящую с личным опытом. Совокупность «историй детства» позволяет увидеть общие черты в восприятии городского пространства детьми, несмотря на то что связь, создаваемая растущим человеком с открывшимся ему пейзажем, глубоко индивидуальна, поскольку в этом взаимодействии ребенок творит «свой мир», опираясь не только на увиденное, но и на придуманное, фантазийное.
В воспоминаниях о детстве в Сортавале обрисовываются особенности жилища — квартиры, дома, черты его планировки, называются особенно любимые помещения, детские укромные места. Характерно, что в интервью респонденты по своей инициативе, без наводящих вопросов сообщали информацию, иногда предположительную, о прежних, «досоветских» обитателях этих домов. «Дом был старый, двухэтажный. Дом был явно предназначен для людей, которые жили и работали. Скорее всего, они были рабочими, потому что совсем небольшие были секции-комнаты и прекрасные застекленные огромные веранды, абсолютно в которые вписывалось все: и кладовые, и возможность детей поиграть».
Естественным стремлением детей, осваивающих и обживающих ближайшее пространство, является создание собственных закутков, потаенных предметов и секретных мест — маленького мирка, где будет все свое. «Чуть ли не с 1-го класса мы все имели дневники, с которыми я очень сильно погорела, потому что я была сильная фантазерка, и я приписывала себе то, что вообще не было в жизни. <...> . Дневники в виде песенника, стихотворений полюбившихся. И обязательно там присутствовала фотография "Полюби меня" или "Мое сердце тебе" <...> . [Хранила тетрадь] в разных местах. Конечно, это было место и в сарае, под сеном с кроликами. Там родители находили, и результаты были соответственные. А потом еще на веранде, где был специально для нас, для детей, отведен уголок, где была кукольная комната. И я думала всегда: ну вот сюда-то родители конечно не заглянут, и я могу свободно спрятать под ковриком дневник...»
Опасные и «страшные места» психологи выделяют как особый тип детских «мест», вслед за местами для игр. К таким локусам дети относят необитаемые людьми замкнутые пространства, среди которых — редко посещаемые взрослыми чердаки, подвалы, сараи и т. д. Эти места являются запретными для детей, считаются опасными. Их таинственность привлекает младших детей, дает возможность реализовать естественную потребность переживания ужасного, а для подростков это локусы уединения, временного укрытия от внимания взрослых. В послевоенной Сортавале к числу таких мест относились расположенные рядом с домами сараи, где хранились дрова и хозяйственная утварь. «Сараи — это все наше.., с крыш сараев спрыгивали, ломали руки, ноги, это было»; «[курили листья] за сараями, из сараев дым шел». «Мы еще очень любили играть на крышах сараев. Я уверена, что это были строения от предыдущих жителей, они просто окружали весь наш городок. <...> они были в два этажа. И наше любимое было занятие — играть на этой крыше. Ну и как все дети, мы любили разыгрывать семейные сцены...»
Компании любопытных мальчиков-подростков исследовали чердаки, где могло происходить столкновение с предметами иной культуры: «Почти все мы жили в домах финских деревянных, и конечно мальчишки обследовали чердаки. Мы залезали на чердак, и я это отчетливо помню: какие-то старые вещи, не наши, брошенные. <...> я видел там подшивки газет на непонятном мне языке. А поскольку мы курили листья, то эти газеты мы вырывали, они были очень такого не нашего качества, такая тонкая бумага, очень хорошо. И эти надписи на непонятном нам языке. Мы понимали, что это вещи каких-то людей, которые раньше здесь жили».
На чердаках встречались предметы, приоткрывавшие завесу тайны над историей исчезнувших недавно обитателей города, хотя и не дававшие объяснения молчанию взрослых. Эти предметы пополняли детские коллекции: «Коллекционировали многое. Фантики — это обязательно. Потом коллекционировали красивые вещи. <...> У многих, наверное, оставались вещи от финнов, скорее всего, потому что там были безумные статуэтки, безумные какие-то мелочи. Вот, например, когда внутри стекла снег падает, это для меня было открытие, это было явно не привозное, а оставшееся. А потом еще коллекционировали (это, наверное, тоже из оставшегося) невиданные ткани, точнее лоскутки, из которых шили наряды для своих кукол».
С началом школьного периода детства связано скачкообразное увеличение освоенного пространства. Освоение пути в школу, преодолеваемого в одиночку или группами одноклассников, сопровождалось появлением его вариантов в зависимости от обстоятельств. Ольга Степанова, охарактеризовав короткий путь в школу, предложенный взрослыми, продолжает: «Но у тебя есть другой путь, длинный. Сперва спускаешься по горке, потом поднимаешься по горке и проходишь мимо Никольской церкви — это наш путь. Она [церковь] была хороша тогда, но она была запретным местом для нас. Нет, не Никольская, я неправильно назвала, святого Николая. Я впоследствии узнала, что я крещенная совершенно тайно, папа мне потом сказал. Не его бабушка, а мамина бабушка крестила. Я этого не знала, может, поэтому я такие вещи делала. И вокруг этой церкви огромная-огромная изгородь. И вот, даже если ты опаздываешь в школу, всегда, как правило, идешь не один, а ватага, находился один смельчак, который, особенно в снежную пору, обязательно бросал в эту церковь снежком, ну и нашелся другой. И выскакивал, ну не батюшка, а служащий из этой церкви, а у нас ведь такое отношение к религии, мы же октябрята — будущие пионеры, и в общем подразнить этого церковнослужителя — это тоже была игра». Приключения, острые ощущения — важная составляющая пути, эмоционально необходимая детям. В советское время церковные здания оказались в ряду отчуждаемых, но не отчужденных от детского внимания, странных, волнующих, притягательных мест.
Большой интерес у детей вызывала железная дорога. Она воспринималась как место приключений, способ расширить свой мир, ощутить динамику жизни. Сильные эмоциональные переживания у детей послевоенной Сортавалы связаны с железнодорожными сооружениями: рельсовыми путями и мостом. Даже по пути в школу группы детей не обходили стороной железнодорожные коммуникации. Их преодоление, совместное переживание опасности было способом группового сплочения: «...я уж не говорю про железную дорогу <...> , это тупик, к молокозаводу подходит, но там много-много стояло, кстати, и финских вагонов, вот это я очень помню, старые финские вагоны. Вид и форма — совершенно не то [что у наших]. А мы опаздываем, нам нельзя там ходить, там не было перехода вообще, нам не разрешалось, а нам нужно быстро, опаздываем, и мы перелезали под вагонами — это наша тоже игра была... В любой момент могли [вагоны] отправиться. Были такие случаи. У нас были ребята, которые плашмя падали [на рельсы] вот так, рисковали».
Поездки в дни каникул начинались и заканчивались на сортавальском вокзале, имевшем в силу нахождения в пограничной зоне, свою специфику. Попасть сюда дети могли только в сопровождении взрослых. «...на этом вокзале прошло все мое детство. Все начиналось с того, что нас встречали пограничники, и ни один человек не мог пройти с этой станции, проникнуть в город, не пройдя осмотр пограничника, не имея на это пропуск». «Я помню: выход из поезда, пропуска какие-то, я не помню, что там показывали, но ряд пограничников с собаками. <...> Коридор».
На границе дозволенного и запретного пространств в воспоминаниях о детстве оказался сортавальский парк, определяемый как «самое любимое наше место». Далеко не все пространство парка было безопасным: «... это было убежище наших детских лет. Нам страшно запрещали туда ходить, потому что там были такие каменные подвалы, можно провалиться было, за ними же еще не следили, не успели туда обратить внимание. А нас это сильно привлекало. Во-первых, оттуда был прекрасный вид на город, а во-вторых, мы совершали походы, мы брали самый небольшой запас пищи, собирались (в том числе и мальчишки, я вообще любительница мальчишеских команд), и шли туда, только-только снег таял, и мы туда уходили. Мы говорили, что мы идем в другое место, а шли туда. Это самое любимое наше место. <...> Ты мог провалиться, и были такие трагические случаи, когда проваливались. Но это нас не останавливало».
Таинственные места парка, овеянные городскими легендами, вызывали у детей ассоциации со сказочной реальностью и подчас внушали ужас: «Еще одно странное место было в парке. Но внушало оно мне совсем другие чувства. Около Зеленого Театра, на еловой аллее, стояла почерневшая от старости курная изба, привезенная откуда-то как памятник архитектуры Северного Приладожья. Я не знаю почему, но эта изба внушала мне ужас. Низкая, черная, с пустыми окнами-глазницами, она никогда не освещалась лучами солнца, потому что их не пропускали тяжелые лапы столетних елей. Разросшийся папоротник, скалы, сочащиеся влагой, и почему-то постоянно витавший там грибной запах. Пусть звенел Зеленый Театр, на центральной аллее гуляло множество людей — здесь всегда было пусто и сумрачно. В те времена, когда с детским садом я приходила в парк и вместе со сверстниками осторожно приближалась к избе, она казалась мне жилищем Бабы-Яги. Потом стало просто жутко. Я и теперь не люблю бывать в этой аллее, хотя страшного дома там уже нет. Не знаю, что видели старые бревна курной избы, но думается, были они свидетелями чего-то страшного. Вообще у Сортавалы много тайн. Например, легенда о подземном ходе, который ведет из парка аж на Валаам».
Как «страшно интересные» в воспоминаниях о детстве характеризуются опасные, запрещаемые для посещения детей места. Магнетизмом для детей послевоенной Сортавалы обладал пустырь на месте бывшего завода по производству битума, поскольку здесь можно было удовлетворить потребность в «пространственной экспансии» и устроить особенно сложные испытания: «Мы как-то попали, куда нам тоже нельзя было, на завод, там было что-то черное, тягучее, <...> поле самопроизвольно разлитого этого черного тягучего вещества в большом количестве. И отважный [какой-нибудь ребенок] бежал; если застревал [увязнув в битуме], тогда надо было за родителями бежать». Это был и характерный для детей способ выяснения статуса каждого участника в групповой иерархии, потому что пределы возможностей каждого наглядно проявляются в том, кто и где останавливается.
Дети младшего школьного возраста, осваивая пространство вопреки планам взрослых, делали вылазки на финское кладбище с целью группового исследования одного из загадочных мест и собственного самоутверждения. К тому же здесь можно было дистанцироваться от мира взрослых. «Это кладбище располагалось в той части города, которая в моем детстве называлась "Военный городок". Оно было закрытым, на нем никого уже не хоронили». «На финском кладбище много времени проводили: играли в войну, залегали за эти памятники. ...оно в таком романтическом месте, рядом все это. Непонятные были надписи, такие загадочные».
Кладбище привлекало детей не только своей загадочностью, но и тем, что «подсказывало» сюжетные «игры с приключениями», создавало особую атмосферу для фантазирования: «...[родителям] очень не нравилось, даже не по отношению там финны или русские, они говорили: это не место для игр... [Финское кладбище] было очень интересным, оно нас притягивало своей красотой, своей монументальностью и своим каким-то загадочным видом. <...> Мы и в футбол играли, не осознавая... Мы во многие игры играли на этом кладбище, на финском. Там были и секретики, которые мы, абсолютно не подумав, что рядом могилы, мы устраивали эти секретики и стекла [закапывали] каждый для себя. Конечно, мы собирали там все гербарии, потому что там бесконечное количество было всяких растений. Но, самое главное, с возрастом я принимала участие в играх в футбол. Мы гоняли мяч. Ни один человек не сказал. Мы, конечно, не прямо по могилам этим, но в огромных этих пространствах, которые связаны с этими каменными большими структурами — памятниками, мы делали ворота и бегали. Я только сейчас начинаю понимать, насколько мы это чудовищно делали, но нам в голову не приходило, что это плохо. <...> мы прятались за могилы, у нас было условие — ты должен был найти какую-то фамилию именно на этом памятнике, когда ищущий не мог найти (а там очень огромные расстояния). <...> Кричали эти слова, и это было как бы еще для поиска, он искал по этим словам, но это очень редко ему удавалось, потому что найти тяжело, это все [надписи на плитах] было на финском языке... <...> Страх был перед этим кладбищем в том смысле, что один туда просто так прийти и ждать там друзей, ты себе не мог позволить. А еще страх заключался в том, даже когда мы играли в прятки и прыгали, и прятались за эти глыбы, всегда было ощущение, что тебя кто-то может утащить. И это ощущение еще ярче оставило вот эту картинку, она до сих пор у меня тоже [перед глазами] стоит, что я прячусь за какую-то могилу, я даже не знаю, что там написано, потому что на финском языке, но тем не менее страх был, что этот человек может меня туда утащить. <...> Про черного человечка был рассказ. Он обрастал разными... [версиями]».
В различных жанрах детского фольклора здесь проигрывалась, «проживалась» и осмысливалась тема смерти и смертельной опасности, а коллективные переживания облегчали внутреннюю работу, позволяющую освободиться от страхов. Возможность детского самоутверждения через преодоление страха явственно выражена в воспоминаниях. То, что поначалу вызывало трепет, постепенно становилось привычным, а для детей подросткового возраста финское кладбище как место для игр утрачивало интерес: «После 4-го класса это кладбище ушло из моего понимания, вообще из моего детства».
У подростков отношение к этой части города было уже иным, связанным с осознанно принятыми ограничениями: «... мы с ребятами иногда приходили туда просто из любопытства, побродить по заросшим дорожкам. Сейчас я понимаю, что нас влекло не только любопытство, но и некое другое чувство — ощущение прикосновения к иной культуре. Как же отличалось это кладбище от наших привычных, советских, с красными надгробиями-пирамидками! Прежде всего поражали памятники — строгие, из черного, реже серого камня, красивый склеп. Не боящиеся никакой непогоды надписи золотой и серебряной краской. Мы читали незнакомо звучащие имена, подсчитывали возраст покоившихся под красивыми камнями людей, гадали, кем и какими они были в жизни.
Я никогда на этом кладбище не ощущала горестного, тягостного чувства — только покой. Говорили мы там всегда вполголоса — кощунством казалось разговаривать громко. Я думаю, что вот это светлое настроение возникало потому, что это кладбище, на которое много лет не приходили к усопшим близкие люди, вынужденные покинуть Сортавалу, совершенно не выглядело заброшенным. Крепкими и аккуратными были ступеньки, устроенные кое-где на дорожках, сохранились надписи на могильных плитах, исправной была широкая невысокая ограда, сложенная из тщательно пригнанных друг к другу диких округлых камней. Но самое главное — посаженные в изобилии кусты как будто до сих пор носили следы когда-то тщательного ухода. Поэтому летом кладбище затоплял аромат сирени, жимолости, белого шиповника, жасмина. И я не помню, чтобы когда-то кто-либо из нас, подростков, обломал хоть ветку с этих кустов. Это было просто НЕВОЗМОЖНО».
Таким образом, культурная чужеродность сортавальского городского ландшафта ярко проявилась при освоении детьми запретных и опасных пространств. Но для полноты картины следует сказать несколько слов и о тех общедоступных, свободных от запретов местах города, которые в силу детского восприятия и фантазий обретали черты таинственности и особой притягательности. Зачастую именно они заставляли задаваться вопросом о прежних, неизвестных обитателях города.
Язык городской архитектуры выступает мощным средством формирования пространственного сознания детей: «Я понимал, что я живу в каком-то особом городе — архитектура меня завораживала, потому что мимо этого пройти невозможно», — отмечал известный далеко за пределами Карелии философ, писатель и поэт Юрий Линник (1944—2018). В раннем детстве ему довелось жить в доме, построенном Уно Ульбергом в 1913 г. как здание банка, где в советский период на первом этаже размещалась почта. Линник описывает детские чувства и переживания, их развитие по мере взросления: «В доме, похожем на древний замок, были витражи. Часами я мог рассматривать фантастический декор его печей и каминов <...> . Мой волшебный дом: он стал одновременно восприниматься и как родное, и как чужое. Разве сказка может когда-нибудь окончательно стать своей? Она принадлежит к иному плану бытия — она отчуждена от обыденной реальности <...>. Просто в моей душе нарастала какая-то робость, — будто я попал не в свои владения, являюсь только гостем. Где хозяева? Быть может, это эльфы, ставшие невидимыми».
Уже будучи зрелым поэтом, в «Подношении Уно Ульбергу» Линник оценил значение творения знаменитого архитектора для собственного детского мировосприятия и личностного становления:
«О, как раздвинул зодчий рубежи!
Он был послом державы зазеркальной —
Он мне открыл другие измеренья».
Здесь «зазеркалье» прочитывается как метафорическое обозначение иной, сказочной страны, мысленный вход в которую подобен чуду. Продолжение темы зазеркалья, страны чудес, находим также в воспоминаниях Натальи Першиной. Странная маленькая дверь в стене каменной изгороди рядом с почтамтом Сортавалы виделась девочке как магический проем, выход в ожидаемую «страну чудес», в пространство мечты. Притяжение этого объекта и его сила настолько велики, что он спустя годы становится заветным знаком идентификации «своих людей», родственных душ: «Около замечательно красивого здания городского почтамта, слева, была довольно высокая каменная стена, покрытая сверху красной черепичной крышей. Цепляясь за неровности, вверх полз дикий виноград. И вот в этой стене, почти посередине, находилась дверца. Небольшая — взрослый человек мог бы пройти в нее только слегка согнувшись, — полукруглая вверху. Эта дверца всегда была закрыта. Я часто стояла около нее, но никогда не отважилась даже прикоснуться к гладким, плотно пригнанным друг к другу доскам. Просто стояла и слушала. За дверцей была тишина. Нет, конечно, обычные городские шумы никуда не девались, но я их тогда не воспринимала. Я слушала ТО, ЧТО БЫЛО ЗА ДВЕРЦЕЙ, а там было тихо.
Во дворе почты я была много раз. Но никогда обычный грязноватый двор не монтировался в моем сознании с ДВЕРЦЕЙ. Она находилась в другом мире. Я так и не открыла ее, даже не попыталась. Что-то словно запрещало касаться темных тяжелых досок. Но помню об этой дверце я всю свою жизнь».
Восприятие некой дверцы (функции которой может выполнять зеркало, картина и т. д.) как места перехода на границе пространства реального и нереального, как магического проема в качественно иное пространство характерно для детского сознания. Это нашло отражение в художественной литературе: вспомним хотя бы сказочные повести Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес», Памелы Трэверс «Мэри Поппинс», Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино».
Одним из волнующих моментов для юных сортавальцев было посещение мест, где явственно сохранились следы былых обитателей края. В силу молчания взрослых по этому поводу, такие места осмысливались детьми с привлечением собственной фантазии, а для кого-то это осмысление откладывалось на годы. Такими волнующими местами становились, в частности, заброшенные финские хутора в окрестностях Сортавалы. «Вокруг Сортавалы много мест, вызывавших у меня совершенно особое чувство. Каждый раз, даже когда просто проезжаю мимо в быстро несущейся машине, ощущаю тоскливую горечь, как на кладбище. Это финские хутора. Сейчас от них ничего не осталось, но очень легко угадывается место, где прежде жили люди <...>. А когда дорога пробегает по красивому перешейку между двух небольших озер, я ощущаю просто физическую боль, и у меня всегда перехватывает горло. Там от дома остался сложенный из камня-дикаря фундамент и лестница, ведущая на второй этаж. Представьте прелестное спокойное озеро, сосновые боры вокруг, старые березы около дороги — и эта прочная, призванная служить многим поколениям лестница в никуда. Такой чудовищный диссонанс с тем покоем, который просто излучает окружающий мир. Эта лестница — памятник жестокости, несправедливости, злу. И когда я — нечасто — бываю на этом перешейке, словно слышу безмолвный горестный вопль. Определить свои чувства я смогла, конечно, не сразу. Но когда я увидела эту лестницу еще девчонкой, она зацепила, царапнула мою душу. Я помнила о ней всегда и почему-то испытывала чувство вины перед теми, кто жил когда-то в этом доме и мог бы жить еще и сейчас».
Персональные открытия трагической судьбы Сортавалы происходили уже в зрелом возрасте. Ольга Степанова рассказывает о том потрясении, которое получила в музее финского города Йоэнсуу при знакомстве с экспозицией о военной Сортавале: «Мы пришли в музей, и там находится макет моего родного Сортавала, где и улица, на которой я родилась, и дом <...>. А потом нам показывают комнату, где люди (местные финны) должны были за очень короткое время по договору с нашей стороной покинуть это место жительства. И эта комната воспроизведена, как они собирали вещи: открытые чемоданы валяются, комоды, вещи разбросаны, и лежит совершенно пустой чемодан, с которым женщина приехала из Сортавалы уже в Финляндию, потому что она находилась в таком состоянии, что не смогла его собрать, она просто взяла этот пустой [чемодан] и приехала в Финляндию. И вот тогда я поняла, где я провела детство. Счастливое детство. Я поняла, какое сосредоточие горя, слез и беды находилось в этом моем счастливом городе, который я обожаю, люблю и несу в своем сердце».
Открывшиеся уже во взрослом возрасте трагические страницы истории Сортавалы, цивилизационный разлом в его судьбе, приводили думающих людей к постановке вопроса о праве «на этот город». Эту черту в творчестве журналиста Владимира Судакова, уроженца Сортавалы, подметил его земляк — историк Александр Изотов: «Складывается впечатление, что, будучи предельно честным художником, он постоянно стремится доказать право на родной город». То же направление имеют рассуждения Юрия Линника: «Как бы то ни было, а в субъективной или биографической плоскости я имею все права на этот город — детство аполитично. Я пытаюсь удерживать его в себе, несмотря на беспощадный рост энтропии. Судьба подарила мне сказку. Город-сказку! Можно ли представить более щедрый дар? Мое сортавальское детство было бесконечно счастливым».
Город как подарок судьбы, как пространство счастья — сквозная линия воспоминаний о сортавальском послевоенном детстве. Здесь, как и в других городах, в процессе свободных перемещений, дети создавали собственную топографию обживаемой среды. В ней значимое место занимали коллективные убежища от власти взрослых, ценные своей сокровенностью, приобретенной в результате нарушенного запрета или преодоления страха. Они осваивались детьми, как и все пространство города, поэтапно, с постепенным охватом все более широких территорий. Характерно, что в Сортавале такими местами, в числе других, становились финские кладбища, являвшиеся для взрослых зонами культурного отчуждения. Освоение запретных и таинственных мест — процесс эмоционального постижения мира, расширение его картины за счет собственного потаенного опыта, личных открытий и взаимодействий. В таких местах происходит необходимое детям эмоциональное проживание значимых элементов окружающей среды и формирование детского мифа о мире.
Одним из факторов широкой вовлеченности детей в поведенческие практики по освоению необычных мест были и социальные условия своего времени. Они определялись не только потребностью придумывать «секретный мир», но и такой особенностью советского социума, как тотальная занятость родителей. Пространственная организация детства в условиях советской культуры, привнесенной в «культурную оболочку», историко-культурный ландшафт еще недавно «западного города», отклонялась от задаваемых «сверху» ориентиров. Практики освоения городского пространства детьми стали частью процесса постижения культурного ландшафта «снизу», происходившего вопреки упорядоченному и регламентированному процессу «изучения своего края».
Список литературы
Антропова Ю. Ю. Современный городской социум и пространство детства: проблемы сопряженного развития // Известия Саратовского университета. Новая серия. Сер.: Социология. Политология. 2016. № 16 (2). С. 153—161.
Асонова Е. Новые ценности в детско-родительских отношениях // Pro et Contra. 2010. № 1-2 (48). C. 78-93.
Безрогов В. Г. Архив воспоминаний о детстве Университета Российской академии образования // Развитие личности. 2003. № 1. С. 186-203.
Безрогов В. Г. Помнить нельзя забыть: коллективная память, воспоминания о детстве и тема войны в учебниках для начальной школы конца 1940-х — начала 2000-х гг. // Вторая мировая война в рамках детской памяти / Рожков А. Ю., ред. Краснодар, 2010. С. 39-42.
Изотов А. Загадки Владимира Судакова // Российский писатель. URL: https://rospisatel.ru/sudakov-statja.htm (дата обращения: 08.08.2018).
Линник Ю. Моя фенномания // Север. 2008. № 3-4. С. 222-232.
Линник Ю. Подношение Уно Ульбергу // Сердоболь, моя ты Сортавала... Сборник стихов [электронное издание]. Сортавальская межпоселенческая районная библиотека. URL: https://sortlib.krl.muzkult.ru/img/upload/4424/documents/2_serdobol.pdf (дата обращения: 20.08.2018).
Осорина М. В. Секретный мир детей в пространстве мира взрослых. СПб., 2008.
Першина Н. Дверь в прошлое или?.. // Север. 2008. № 3-4. С. 234-238.
Сальникова А. А. Город детства в автобиографических нарративах казанских историков // Вестник Пермского ун-та. Сер.: История. 2019. Вып. 1 (44). С. 129-137.
Сальникова А. А. Конструирование «детского» пространства советского города в 1917— 1927 гг. (к постановке проблемы) // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. 2017. Вып. 60. C. 222-237.
Топорков А. Детские секреты в научном освещении (обзор современной литературы по детскому фольклору) // НЛО. 2000. № 5 (45). С. 352-359.
Хамитова Ж. А. Советская журнальная периодика 1930-х гг. как источник по истории формирования детского пространства социалистического города: автореф. дис. ... канд. ист. наук. Казань, 2013.
Чередникова М. П. Современная русская детская мифология в контексте фактов традиционной культуры и детской психологии. Ульяновск, 1995.
Vestnik Pravoslavnogo Sviato-Tikhonovskogo gumanitarnogo universiteta. Seriia IV: Pedagogika. Psikhologiia. 2020. Vol. 58. P. 129-143 DOI: 10.15382/sturIV202058.129-143
Источник: сайт CYBERLENINKA